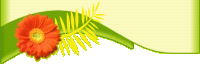В память о малой родине
Эту тонкую, размером с общую тетрадку, книжку мне показала методист музея истории района Елизавета Семёнова. Называется она «Воспоминания» и издана в Твери в 2011 году тиражом всего 50 экземпляров, один из которых её авторы - сестры Ираида Понизовская и Галина Еремееева передали в память о малой родине.
Эта книга – воспоминания коренных холмичек о годах детства и юности, совпавших с войной, о пережитом. К сожалению, Ираида Максимовна Понизовская умерла в 2007 году, а её записи с воспоминаниями уже готовила к публикации младшая сестра Галина, добавляя свои впечатления о прожитом и пережитом. Воспоминания, которые легли в основу этого очерка, ценны тем, что сёстры называют имена своих земляков, открывают интересные факты нашей истории.
О семье
Максим Семёнович Понизовский родился в 1892 году в деревне Понизовье на реке Серёжа в крестьянской семье. Как сирота был принят в сельскохозяйственную школу на попечительство её основателя генерала Куропаткина. А до революции он уже работал агрономом на участке в Троице Хлавице. До этого служил в армии рядовым в Одессе. Уже тогда Максим Понизовский был знаком со своей будущей женой, которой посылал в конвертах с письмами засушенные веточки белой акации. Екатерина Васильевна Исаева родилась в 1895 году в мещанской семье. Поженились они в 1917 году.
2 января 1919 года родился сын-первенец Валентин. Следующий сын Геннадий умер в младенчестве. 5 декабря 1922 года родилась Ираида. Потом родилась ещё девочка, которая умерла, не прожив двух лет. 31 августа 1927 года родилась дочка Галя.
Отца, как вспоминают сёстры, перебрасывали с участка на участок. Работал в Волоке, потом было Лебедево, Пушкинские Горы. Там в 1933 году его арестовали. Семью врага народы выселили, и мать с тремя детьми отправилась на свою малую родину в Холм. Екатерина Васильевна, оставив дочерей на попечение своей матери Анны Петровны, со старшим сыном отправилась в Москву хлопотать за мужа. Там ей удалось попасть к жене Горького Екатерине Пешковой. Та помогла. В 1935 году Максим Семёнович вернулся домой из мест заключения на Дальнем Востоке. Он устроился на работу, на станцию Дно, а перед войной семья опять вернулась в Холм.
Война
2 августа 1941 года – чёрная дата в истории Холма и холмичей. И спустя 71 год полно недосказанного. Живых свидетелей уже нет. Уцелевших довоенных холмичей лихолетье раскидало по всему свету. Поэтому и спустя десятилетия ценны воспоминания сестёр Понизовских.
Вот как описывает свои впечатления Галина:
«Хорошо помню начало войны. С утра я с девочками-одноклассницами Ирой Криминь, Симой Захаровой, Женей Даниловой и другими убирала школьный двор, полола цветники: школа готовилась к выпускному вечеру. К 12 часам я прибежала домой. Было воскресенье, чудесная погода, лето, жара. По радио передавали бодрые марши. И вдруг – сообщение о начале войны. Всё будто потемнело, хотя по-прежнему светило солнце. Через пару дней через Холм хлынул поток беженцев, было очень много военных. Мы, девчонки моего возраста (13 – 14 лет), совали всюду носы, даже ночью дежурили на улице, чтобы ловить шпионов или копали окопы, но это была игра...»
Старшей сестре Ираиде шёл девятнадцатый год. Она уже студентка Ленинградского Политехнического института. Перед зимней сессией вышел новый закон о введении платы за обучение и выплате стипендии только с одной четвёркой. Зимнюю сессию она сдала, но получила две или три четвёрки. Зная тяжёлое финансовое положение семьи, Ираида переводится на заочное отделение педагогического института. Учится в политехническом, живя в Холме, нереально. В феврале она возвращается в Холм. На работу ещё не устроилась, а в июне уезжает на летнюю сессию. Здесь её застигает весть о войне.
А это из воспоминаний Ираиды Понизовской:
«В ночь с 22-го на 23-е я была уже в бомбоубежище, в подвале под зданием школы. Бомбёжки не было. Ленинград как-то сразу посуровел, в небо поднимались аэростаты, везде копали щели, стали исчезать продукты. В Гатчине жила папина сестра тётя Паня. К ней на совет и приехали я и её родная племянница Валя Смирнова, которая училась на первом курсе автодорожного института. Нам посоветовали пробираться домой. Бросив всё, что у меня было куплено из продуктов для дома (в Холме и до войны было очень плохо с продуктами), я, Валя и Аркадий Павлов (он тоже приезжал на сессию) мотались между Московским и Витебским вокзалами, стремясь выехать либо с Московского в Старую Руссу или с Витебского до станции Локня. В вокзал не пробиться.
Утром 3 июля я находилась около Московского вокзала, слышала выступление Сталина: «Братья и сёстры, друзья мои...» Выступление не вселяло надежды, хотелось быстрее вырваться из Ленинграда, так как уже говорили, что немцы взяли Псков и двигаются к Луге. Ночью на 4 июля удалось прорваться в Витебский вокзал. На путях под парами стоял какой-то эшелон с населением, и мы забрались в него. Когда выехали из Ленинграда и рассвело, то оказалось, что мы в товарняке вместе с цыганами, которых эвакуировали из-под Выборга.
Вот мы и на станции Локня. Идём на Холмское шоссе. Холм считался таким «медвежьим углом», что думалось, что война туда не придёт. А тут всё гудит. Непрерывно в сторону Холма идут военные машины... Дома сразу же вместе с молодёжью я пошла рыть окопы. Чуть позже мы пошли работать в госпиталь. Раненых много. Под госпиталь заняты здания педучилища и нашей школы. Кругом неразбериха, врачи где-то всё заседают. Раненые поступают необработанные, прямо с передовой. Я попала в операционную, капала на маску наркоз, о каких-то нормах никто не думал.
События в городе развивались стремительно. Полно беженцев. Беда пришла и в нашу семью. Был мобилизован папа. Его мы проводили по Осташковскому тракту 5 – 6 километров. Мы остались, а он пошёл в солдатской шинели и с холщёвым вещмешком за плечами. Папа называл нам, куда двигаться дальше (к какому-то его другу в деревню), чувствовалось, что вот-вот немец будет здесь. Через Ловать срочно строили низкий мост, чтобы могли пройти танки. А я пропадаю в госпитале. Вот уже ночь. Электричества не было, в здании педучилища я в операционной. На столе боец с касательным ранением грудной клетки. Я держу лампу возле хирурга, слышу, как хрустят рёбра – их отстригают какими-то ножницами. Мне плохо, я ставлю лампу, пытаюсь отойти, но на меня прикрикнул хирург, и я снова держу... До начала операции меня посылали в соседний класс за другим врачом, а там на двух столах шли ампутации. Представляете, какие у меня были ощущения? Я не видела кровь, не знакома с медициной. Снова держу лампу. Не знаю, как её поставила, но потеряла сознание, упала лицом. Меня поднимают. Очухалась, сижу на полу. Как сейчас помню голос хирурга: «Ай-яй-яй! Такая молодая и такая слабая!» Я засунула халат между книг, это было в учительской, и ночью пошла домой...
Пока пару дней я залечивала свои нос и губы, госпиталь уже снялся, город обезлюдел. Мы погрузили кое-какие котули на велосипед, взяли корову и вместе с семьёй тёти Мани Павловой двинулись по Торопецкому тракту, потом свернули к Осташковскому тракту и остановились у деревни Осцы. Там у тёти Мани были знакомые крестьяне.
2 августа (меньше месяца с того времени, как я бегала по Ленинграду, стремясь выехать) Холм горел. Зарево было видно и в той деревне, где мы находились. Город жгли, отступая, наши местные руководители. Всё это делалось согласно установке, которую дал Сталин в своём обращении. Он хотел оставить немцам выжженную пустыню, а как должно жить население – об этом не думали. Армия прошла, раненые попрятались по крестьянским дворам. Тишина страшная, гнетущая. Появились в деревне немцы, но немного. Они вылавливали раненых. Мы, девчонки, прятались...».
Оккупация
Листаю дальше воспоминания Ираиды Понизовской:
«Через какое-то время бабушка Феня пошла в Холм посмотреть, что осталось там живого. Пришла она обратно, отдаёт маме ключи и говорит: «Катенька, нет больше у нас дома». Так с первых же месяцев войны мы стали бездомными беженцами. Дом тёти Мани сохранился, они жили на окраине, на Советской улице. Решили возвращаться в Холм вместе с тётей Маней, чтобы у них остановиться на первое время. Дом цел, но жить в роли нищих даже у такой близкой для мамы «Манюши» было очень трудно... Галя на пепелище собирала кирпичи, к ней подошёл какой-то мальчишка, который, по-видимому, был в партизанах. Он рассказал, как на Иваньковских покосах были партизаны разбиты и мальчишки 7-8-9 классов, которые ещё считали войну игрой в солдатики, погибли. Среди них и Володя Домощук, которого Галя вспоминает, как своё детство... Мы ничего не знали о судьбе папы и брата. Недалеко от Никольской церкви, через дорогу от дома Красильниковых (он тоже сгорел), была виселица, и там висели несчастные. Я туда не ходила, вообще старалась держаться в тени. Галя бегала более свободно, возраст детский.
В городе появились полицейские и городская дума. В неё и комендатуру «доброжелатели» стали сдавать списки комсомольцев и других неблагонадёжных лиц. Мне около месяца удалось прятаться, но дошла очередь и до меня. Как злостный укрыватель я должна была каждый день к 7 часам утра приходить на «отметку» в комендатуру, которая располагалась в Доме крестьянина. Это через дорогу от тюрьмы. Валя Павлова попала в список раньше меня, и она ходила раз в неделю «в среду». Нас направляли на работу: или чистить картошку на кухню, или мыть полы в помещениях, которые готовили под казармы. Как-то сидели девчонки на кухне, чистили картошку, и вот одна молодая дурочка похвасталась, что у неё для тепла одеты солдатские штаны, мол, партизан. Больше мы её не видели: её забрали и повесили вместе с Чупраковыми, матерью и сыном. Отец Чупраковых был в партизанах. Горько то, что уже после войны в Холме они были оболганы, и считалось, что они чуть ли не работали на немцев.
Так прошли сентябрь, октябрь, ноябрь... В ночь на 19 января 1942 года на Татиловскую сторону ворвались партизаны. Пробыли они в городе до рассвета. Кто мог из здорового населения, ушёл с ними, а кто не мог, был потом зверски уничтожен. Так ушла Таня Кукина, с которой я вместе ходила на отметку в комендатуру. На Ильинскую часть тоже ворвались партизаны, была стрельба. Когда к 7 часам утра я пошла в комендатуру на отметку было всё кончено. Было убито несколько немцев – 7 – 10 человек. Я видела их трупы под навесом. Татилово после изгнания партизан здорово пострадало. Мужское население, вплоть до мальчишек, было расстреляно возле ручья, где была электростанция. Многие дома вместе с народом сожжены. С 19 января Холм попал в окружение наших войск...»
Послесловие
В окружении злоключения семьи Понизовских только начинались. Была серьёзно ранена Галина. До середины мая существовали в разрушенном, блокированном городе, преодолевая голод, холод, тиф... Измученные голодом и болезнями холмичи переправились через реку и дотащились до Локни. Год подневольного труда. Потом немцы отправили их дальше в тыл, в Литву, а ещё через год – в Германию. Освенцим, Бухенвальд... К концу войны их купил хозяин винной фабрики из Зоммерхаузена. Здесь их освободили американцы...
Потом пошли свои советские лагеря: на Одере, в Рава Русске... Допросы: почему не эвакуировались, почему работали на немцев, почему не бежали. Было обидно, больно, стыдно. Затем возвращение. Встреча с отцом, который работал в райзо в Тухомичах, пока район не перевели в Холм. А в конце сороковых вся семья перебралась в Торжок...
Анатолий ПИМАНОВ
Фото из книги «Воспоминания» и личного архива Елизаветы Семёновой
(Опубликовано в газете "МАЯК" 12 июля 2012 года)
Семья Понизовских в родном саду в Холме в 1940 году

Галина Еремеева в 2005 году с нашивкой «OST»
в память о гитлеровских концлагерях
![]()