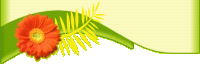Удивительная судьба
Во многих источниках дата смерти нашей замечательной землячки Елизаветы Дмитриевой (Томановской) считается неизвестной. Тем не менее, видный учёный, иссследователь-краевед и Почётный гражданин нашего города Вячеслав Котов точно её указывает – 23 февраля 1919 года.
Для нас мнение автора популярной книги «Холм на Ловати и его земля» является непререкаемым. 23 февраля исполнилось ровно 95 лет со дня смерти легендарной революционерки.
Елизавета Дмитриева (Томановская) родилась в 1851 году в Волоке Холмского уезда в дворянской семье старинного русского рода Кушелевых. Чтобы стать независимой, она вступила в фиктивный брак, обвенчавшись с отставным полковником Томановским. Уже он был неизлечимо болен чахоткой и вскоре умер. В 1868 году Елизавета выехала за границу.
Томановская в Женеве знала о Карле Марксе как руководителе I Интернационала и познакомилась с некоторыми его произведениями. В декабре 1870 года она явилась в Лондон к Марксу с рекомендательным письмом комитета русской секции I Интернационала, в котором Томановскую называли «лучшим другом, искренно и серьёзно преданным революционному делу в России».
В начале марта 1871 года Елизавета Томановская вернулась в Женеву. Выполняя поручение К. Маркса, она решительно выступила на общем собрании секций Интернационала Женевы. Выполнив это поручение, Елизавета Лукинична поехала в Париж, где назревали революционные события. Вместе с Натали Лемель, Луизой Мишель и другими активистками она участвовала в создании женского объединения, вошла в состав центрального комитета союза женщин для защиты Парижа и помощи раненым.
На баррикадах
Очевидец Сюттер Ломан в своей «Истории национального гвардейца» (1881) описывает виденную им на улице Аббатства толпу женщин с ружьями на плече и с пороховницами по бокам, которые кричали: «Да здравствует Коммуна!» Этими женщинами командовала «очень красивая девушка, брюнетка, с вьющимися волосами. Она высока, стройна, хорошо сложена и носит бодро на кончике уха тирольскую фетровую шляпу, украшенную длинным петушиным пером и багровой кокардой». Очевидно, речь шла о Дмитриевой. О храбрости Дмитриевой говорит и историк Коммуны Луи Дюбрейль: «На площади Бланш батальон женщин под командой героической Луизы Мишель и русской Дмитриевой, уже накануне (22 мая) сражавшийся в Батиньоле, обнаружил чудеса храбрости… батальон этот сражался до последнего дня».
В донесении в третье отделение, в котором слова «Елизавета Дмитриева» подчёркнуты красным карандашом, секретарь русского посольства в Париже Обресков пояснял: «Я знал, что эта опасная женщина, русская подданная, уже давно бросилась в социалистическое движение, что она интересовалась бесконечно больше действиями Коммуны, чем ранеными своего походного госпиталя… 23 мая, когда армия атаковала этот квартал, Елизавету Дмитриеву видели на баррикадах; она воодушевляла федератов к сопротивлению, раздавала им амуницию и сама стреляла, стоя во главе около пятидесяти мегер…».
Многие рассказывали, что видели Елизавету Дмитриеву на баррикадах 23 мая. Когда был отдан приказ отойти к Монмартру, туда направили отряд, состоявший из 25 женщин, которым командовали Дмитриева и Луиза Мишель. Журналист Лиссагаре сообщал: «В этот день из района Бастилии привели раненых. В их числе была и госпожа Дмитриева… Высокая и статная… поразительно красивая, она, улыбаясь, поддерживала раненого, чья кровь стекала на её элегантное платье. Вот уже много дней, как она отдала всю свою энергию борьбе на баррикадах, ухаживая за ранеными, находя в своём великодушном сердце невероятные силы». Кто спас её и укрывал после разгрома Коммуны, осталось неизвестным. Изветсно, что Дмитриевой удалось выскользнуть из Парижа, выдавая себя за подданную Пруссии. Вскоре она вернулась в Женеву.
В ссылке
После разгрома Коммуны Томановская отходит от политической деятельности. Вернувшись в Россию, она полюбила некоего Ивана Михайловича Давыдовского, и вышла за него замуж, несмотря на все попытки её друга и товарища по революционной борьбе Утина отговорить её от связи с этим человеком. В конце 1876 года. Утин сообщил К. Марксу, что у Томановской двое детей, а муж её находится в тюрьме по обвинению в принадлежности к обществу мошенников, которые вымогали деньги обманными путями. Томановская обратилась к Утину с просьбой достать три тысячи рублей, чтобы уплатить адвокату, который пожелал бы защищать её мужа. Маркс тепло откликнулся на эту просьбу. Он вскоре написал в Москву: «Я узнал, что одна русская дама, оказавшая большие услуги партии, не может из-за недостатка в деньгах найти в Москве адвоката для своего мужа. Я ничего не знаю о её муже и о том, виновен ли он или нет. Но так как процесс может кончиться ссылкой в Сибирь, и так как г-жа решила следовать за своим мужем, которого считает невиновным, то было бы чрезвычайно важно помочь найти ему хотя бы защитника».
На суде (процесс «червонных валетов») Давыдовский был признан виновным в том, что, напоив некоего Еремеева, уговорил его подписать, а затем выманил у него безденежные вексельные бланки и вексель на 20 тысяч рублей. За это обвиняемый был лишён всех прав состояния и сослан в Сибирь на поселение. Елизавета Лукинична, твёрдо уверенная в его невиновности последовала за ним в Сибирь на поселение. Они жили сначала в Енисейске, затем близ Красноярска, в селе Заледееве. Всю чёрную работу по дому Давыдовская выполняла сама, ухаживала за коровой и лошадью. Много занималась со своими двумя дочерьми. Муж её, по словам знакомых, производил отличное впечатление своей общительностью и преданностью общественным интересам. К сожалению, красноярская ссыльная колония относилась к Елизавете Лукиничне холодно, скептически и недоверчиво, так как не допускала мысли, чтобы друг Маркса и участница Парижской Коммуны вышла замуж за осуждённого по делу «червонных валетов».
В конце 90-х годов Давыдовский был амнистирован и в 1905 году со всей семьёй переехал в Москву, где Елизавета Лукинична впоследствии умерла.
Анатолий ПИМАНОВ
(Опубликовано в газете "Маяк". Февраль 2014 год)